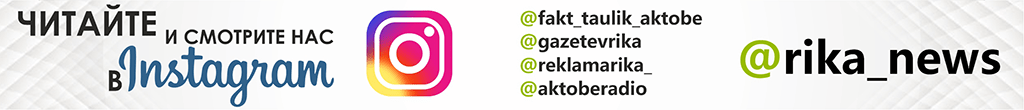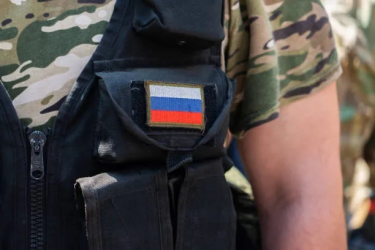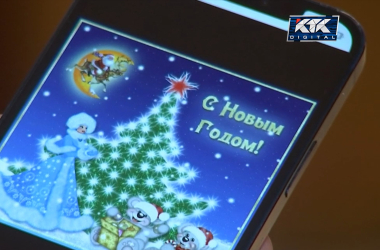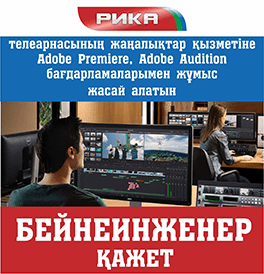«Пролетарский» успех
«Эврика» продолжает публикацию отрывков из книги экс-акима Актобе Каиркожи ЕЛЕУСИЗОВА «Екі дәуірдің тоғысында / На стыке двух эпох». Главы книги опубликованы на казахском и русском языках.
«Единственное средство удержать государство в состоянии независимости от кого-либо – это сельское хозяйство. Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться – вы зависите от других… Торговля создаёт богатство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу».
Жан Жак Руссо
В 1976 году меня назначили главным агрономом в другой совхоз. На работу к себе пригласил директор совхоза «Пролетарский» Куандык Зинешевич Алишев.
Совхоз был создан ещё в 1932 году – в окрестности Аккемира тогда пригнали отары овец, конфискованных у баев. Так появился крупный «Овцесовхоз №1». Сведения об истории совхоза мне удалось разыскать в столичном архиве, я специально был командирован для этого в Москву. Почему в Москву? Потому что наш совхоз изначально подчинялся напрямую союзному руководству.
Удалось раздобыть определённые данные, проливающие свет на историю «Пролетарского».
Например, за всю его бытность поменялись 19 директоров. Многие из них были «варягами», присланными сюда из других мест, работали по 2-3 года и, к сожалению, особых успехов не достигли.
Центр созданного совхоза располагался тогда в отделении «Восток», что в 18 километрах от станции Аккемир.
После войны «Овцесовхоз №1» переименовали в совхоз «Пролетарий» (не «Пролетарский», как он назывался позже). Более того, во времена Хрущёва его разделили на 3 совхоза. Совхозы имени Максима Горького и «Тамдинский» отошли Алгинскому району, оставшиеся посёлки вошли в состав «Пролетарского» совхоза с центром в Аккемире. Аккемир был такой же железнодорожной станцией, что и мой родной Изимбет, они оба появились в начале ХХ века. Вот только Аккемир ждала более радостная судьба.
К «Пролетарскому» присоединили колхозы «Золотонош», «Имени Шевченко» и «Имени Леваневского» (был такой прославленный лётчик, один из первых Героев Советского Союза), позже – и разъезд Жарык с никельтауской железнодорожной ветки.
Мощный толчок развитию всего совхоза, и Аккемира в частности, дало освоение целины. В 1954-55 годах в Казахстане дополнительно распахали и засеяли 15-16 миллионов гектаров земли. Сюда перебрались люди из разных уголков страны, которые, как тогда говорили, по зову партии, отправились на всесоюзную стройку. Освоение целины – событие, противоречиво оцениваемое сегодняшней историографией, но хочу заметить, что уже в первые годы Казахстан стал давать миллиард пудов зерна. Такого никогда не было! После такого оглушительного успеха в сборе урожая Казахстан стали называть житницей Советского Союза.
И встала другая проблема – как сохранить урожай. Нужны были зернохранилища. И тогда в нашей области стали строить мощные элеваторы, располагавшиеся на железнодорожных ветках поблизости от зерносеющих хозяйств – Москва направила на этот проект значительные деньги. В начале 60-х годов элеваторы появились в Джуруне, Тамдах, Каратогае, Актюбинске. Большой элеватор построили и в Аккемире, все близлежащие сёла урожай на хранение свозили к нам.
И «Победа», и «Пролетарский» способны, при благоприятных погодных условиях, сдавать государству по 1,5 миллиона пудов хлеба каждый. Иногда эта цифра доходила даже до 2 миллионов пудов. Мы входили в десятку сильных совхозов Актюбинской области, с нами соревновались такие крупные хозяйства как «Ярославский», «Щербаковский», «Магаджановский».
Директором нашего совхоза в мою бытность, как я уже сказал, был Куандык Алишев. Кандидат сельскохозяйственных наук. С ним работать было тяжело и интересно одновременно. Он интересовался научными статьями, новыми разработками в агротехнике, вёл переписку с научными институтами Северного Кавказа и Куйбышева. Мы оттуда получали семена новых сортов культур.
Алишев мне дал, что называется, зелёную улицу. Я и сам интересовался профессиональной литературой, новыми разработками и предлагал ему попробовать взрастить ту или иную культуру, применить новшества в агротехнике. Всё это тут же внедрялось.
Представляете, мы с одного орошаемого участка умудрялись в один сезон снять 3 урожая! Как? Осенью сеяли озимую рожь. В мае её скашивали. Поле распахивали, сеяли кукурузу. После снимали урожай и сеяли суданскую траву или подсолнух. До ноября суданку ещё дважды скашивали. Так что иногда выходило даже не 3, а 4 урожая! Всего 300-400 центнеров зелёной массы за сезон.
В этом плане вспоминается занятный случай, произошедший со мной. В 1977 году Куандыка Алишева назначили первым секретарём Мугоджарского райкома. И вот весной я решил проверить склады – какие семена и в каком объёме хранятся. И наткнулся на несколько мешков с семенами сорго – кормовой культуры, используемой для молочных пород коров. Если её добавить в кормовой баланс дойных коров, надои растут. Видимо, Куандык Зинешевич заказал сорго где-то, его привезли, а мы ещё не использовали. Интересоваться у Алишева я не стал – на новой работе у него и без того забот хватало. Просто взял и засеял около 70 гектаров.
Ближе к осени смотрю – сорго растёт, масса ровная, густая, но невысокая – выросло сантиметров на 30-40 и остановилось. А я естественно, уже отчитался о засеянных площадях в статуправление. Ну, думаю, не беда, скосим, всё равно на корм скоту сгодится.
И тут меня вызывает заведующий сельхозотделом обкома партии Николай Афанасьевич Солдатенко. Приехал я в Актюбинск, он знакомит меня с Зосимом Сергеевичем Виноградовым – академиком, ведущим научным сотрудником Всесоюзного института растениеводства, высшим специалистом по сорго. Он – рекордсмен сегодняшней России по выведению новых сортов культур, их на его счету более 180.
«Знаю, Каиркожа, ты пытаешься вырастить сорго, - говорит Солдатенко. – Вот Зосим Сергеевич хотел бы посмотреть».
Я давай отнекиваться – не выросло ведь толком оно, областное начальство вместе с таким маститым учёным увидит мой позор и, чего доброго, ещё и снимут с работы. Но меня даже слушать не стали.
Короче, поехали мы, остановились на краю поля. Академик отправился смотреть культуру, а стою ни живой, ни мёртвый. И не верю своим глазам! Виноградов вошёл в поле, встал на колени и обнимает сорго! Спустя время он возвращается ко мне, идёт, улыбается, обнимает меня и благодарит. А я ничего понять не могу!
Оказывается, это американский сорт сорго «Пионер», карликовый. Он просто выше полуметра не вырастает! И в нашей зоне его никто никогда и не пробовал сеять. Академик очень удивился, что этот сорт у нас взошёл.
Короче, Виноградов меня тут же забрал с собой в Челкар, в Приаральскую опытную станцию, которую сам же и создал. Там он в условиях полупустыни испытывал свои сорта, и на базе опытной станции в те дни должно было состояться зональное совещание.
А культуру сорго мы потом ещё несколько лет выращивали.
Большую поддержку в своей работе я получил и от первого секретаря обкома партии Василия Андреевича Ливенцова. Он в своё время окончил Алма-Атинский институт сельского хозяйства (позже переименованный в Казахский государственный сельскохозяйственный институт, который окончил и я) и до партийной работы работал агрономом.
А уж поливное земледелие он знал от и до. И нас постоянно, извините за выражение, долбал – советовал, что, как, когда и после какой культуры нужно сеять. А если кто из агрономов по незнанию или собственному головотяпству нарушал агротехнику, освобождал от должности прямо в поле.
Он очень щепетильно относился к вопросам сельского хозяйства. Начиная с февраля, он проводил совещания: с главными агрономами всех колхозов и совхозов, с главными инженерами, главными зоотехниками, ветврачами. На одном из этих совещаний я был удостоен звания лучший агроном области. По итогом 1983 года меня наградили бронзовой медалью ВДНХ, вскоре после этого всех призёров специально пригласили в Москву на экскурсию по всесоюзной выставке.
Одно время партийное руководство области взялось восстановить былую славу белого проса, с которым прогремел на весь Советский Союз наш земляк Чаганак Берсиев. Семена для посадки собирали, где только могли, даже в ленинградском музее. Мне удалось тогда собрать урожай в 36 центнеров с гектара, за что и был награждён почётной грамотой облисполкома.
А награждать меня медалью «За трудовую доблесть» в Кандагач приезжал Василий Ливенцов. Он-то мне и шепнул: «Кожагали (почему-то он меня именно так называл, а я его не поправлял), если в следующем году ты получишь более 10 центнеров с гектара – будет тебе орден».
Я, конечно, не ради ордена старался, но мы намолотили 10,2 центнера с гектара. Спустя время я набрался смелости и, по случаю будучи в райкоме, зашёл в орготдел, рассказал об обещании Василия Андреевича и задал резонный вопрос – где? А те смеются. Мол, не положено тебе ещё, по правилам очередная награда вручается только по истечении 3 лет после предыдущей. А ты ведь только медаль получил. На том история с орденом и закончилась.
Тем временем, трудился я не ради наград, а ради результата. Пришлось вникнуть в тонкости технологии, как главный агроном добился конкретных результатов – наш совхоз был в области на хорошем счету. Предполагаю, что в то время я уже был в резерве на директора совхоза – даже короткое время пришлось поработать секретарём парткома. Работе на новом участке тоже пришлось учиться, вникать.
И спустя короткое время был назначен директором совхоза. О новой работе – в следующей главе книги.