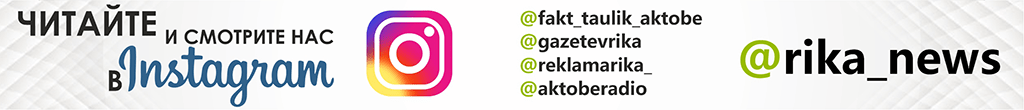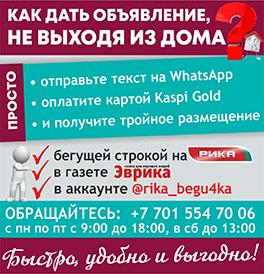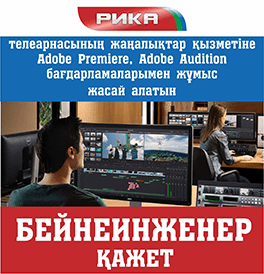Школа жизни
«Эврика» продолжает публикацию отрывков из книги экс-акима Актобе Каиркожи ЕЛЕУСИЗОВА «Екі дәуірдің тоғысында / На стыке двух эпох». Главы книги опубликованы на казахском и русском языках.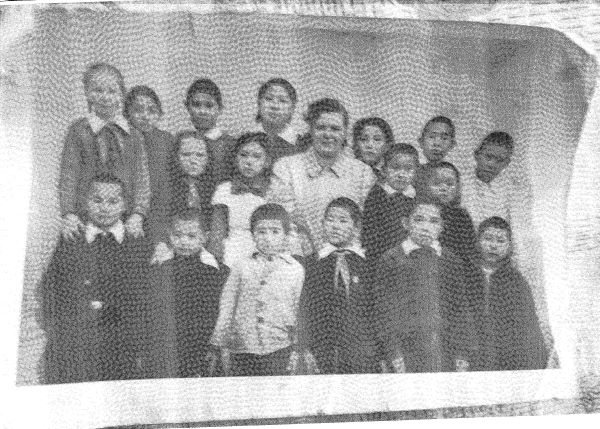
«Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что запомнились».
Подошло время, и я со сверстниками пошёл в первый класс. У нас в Изимбете была лишь начальная школа, 4 класса.
Проблема оказалась в том, что школа была русской, а я на русском языке не знал ни слова. Учился, конечно, с трудом. Доходило буквально до абсурда – я не мог во время урока отпроситься в туалет, не мог объяснить это нашей учительнице, просто вставал и выходил из класса. За это мне по поведению влепили четвёрку.
Представляю, как тяжело приходилось и нашей первой учительнице Антонине Григорьевне Лукавенко. В классе из 20-25 человек было только 5-6 русских ребят. Нашему учителю казахского языка Батыргали Андагулову было не в пример легче. Но ничего, со временем изимбетовские школьники освоились и стали вполне сносно говорить на русском языке.
Со временем я даже специфические термины на русском объяснял отцу. Дело в том, что он периодически сдавал экзамен на стрелочника на русском языке. Так я ему объяснял пояснения к схемам, работу сигналов светофора и инструкции по переводу стрелок путей.
После окончания четырёх классов нашей школы всех учеников для продолжения учёбы определяли в школу-интернат. Она находилась в Кандагаче, на улице Джамбула. Там учились дети железнодорожников со станций, начиная с Джуруна. А мы, по идее, должны были учиться в Эмбе. Я не согласился ехать в Эмбу. Нередко мне говорили: «Парень, ты относишься к Эмбе. Давай, езжай туда». А я не переводился и всё равно остался в 464 школе.
Там учились ребята с Никельтау, Бакая, Токмансая и разъездов. Интернат представлял собой двухэтажное здание, на первом этаже жили мы, на втором – девочки, школа – в том же дворе. Вот здесь мы, четверо ребят из Изимбета, и продолжили учёбу – Таштай Шитов, Каден Кулбулдинов, Бауеш Тагабергенов и я. Нас так и прозвали – четыре мушкетёра, сидели мы в классе на последних партах.
Помню имена наших учителей, ведь школа была просто прекрасной!
Заведующим интернатом был Николай Емельянович Колесников, связист, играл на аккордеоне, директором школы – Валентин Михайлович Воронов, фронтовой офицер. Завуч - Анна Васильевна Краснова. Её муж, Пётр Степанович, участник Великой Отечественной войны, преподавал нам географию. Вера Антоновна Менделуц – математику с физикой. Ирина Николаевна Харитонова – химию. Тамара Степановна Терещенко – историю. Фёдор Фёдорович Маттис – немецкий язык. Фёдор Иванович Браун – пение, музыку и черчение.
К каким замечательным учителям мы попали! Они, действительно, с душой учили нас. Среди них были репрессированные, сосланные в наши края люди из Москвы и Ленинграда. Они многое в жизни повидали: культурную жизнь обеих столиц, некоторые из них прошли войну. А мы, простые сельские пацаны, что видели за свою короткую жизнь? Поэтому и неудивительно, что мы смотрели на них как на богов. Очень сильный педагогический состав. Если бы не они, я – мальчишка из обычной казахской семьи, плохо знавший русский язык, ни в какой вуз не поступил бы.
Допустим, на уроках литературы мы изучали произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Льва Толстого. Читали «Американскую трагедию» Теодора Драйзера, «Сагу о Форсайтах» Джона Голсуорси, «Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго. Наиболее объёмные произведения нам оставляли для прочтения на летние каникулы.
Николай Емельянович, наш заведующий интернатом, создал кружок, где мы изучали азбуку Морзе. Мало того, что он – прекрасный воспитатель, так ещё и играл на аккордеоне. Он проводил для школьников в актовом зале музыкальные вечера. Ребята из старших классов танцевали танго «Под небом Парижа». Мы, младшие, с замиранием сердца смотрели на плавные движения старшеклассников – для нас это было чем-то уникальным. До сих пор, если где услышу эту мелодию, то замираю.
Кормили нас тоже довольно сносно. Пшёнка или другая каша, борщ, сливочное масло, чай – прожить было можно. Ежемесячно отмечали дни рождения детей. В этот день в столовой готовили пирожки с повидлом, иногда давали печенье и конфеты.
А Фёдор Иванович Браун создал в школе целых три оркестра: струнный, духовой и эстрадный! Какая сейчас городская школа может этим похвастать?
На его уроках пения мы не просто пели хором песни, но и получали представление о музыкальных произведениях. Я и сейчас помню, что самая известная симфония Дмитрия Шостаковича – «Девятая» (она же – «Ленинградская»), оперу «Аскольдова могила» написал Алексей Верстовский, а первую казахскую оперу «Абай» - Ахмет Жубанов, «Князь Игорь» - Александр Бородин, знали произведения Модеста Мусоргского и многих других композиторов.
Не перестаю удивляться, какие кадры работали в нашей школе! Мне очень повезло, что я там учился.
Обучаясь в интернате, мы не были оторваны от дома. На выходные, по праздникам и на каникулы нас отпускали по домам. Нам выдали ученические билеты, по которым мы бесплатно могли доехать до родной станции и вернуться в Кандагач. В субботу мы садились на любой пассажирский поезд, ехали зачастую в тамбуре. Да что там ехать – каких-то 50 километров! А на следующий день, к вечеру, возвращались.
Школа нас планомерно готовила к продолжению обучения в высших учебных заведениях. Правда, не все ребята собирались поступать в вузы, большинство после окончания школы собиралось поступить в железнодорожный техникум, а некоторые уходили и после восьмого класса. Я тоже стремился поскорее обрести рабочую профессию. Но родители меня отговорили, настояли на том, чтобы окончить десятилетку.
Я уже писал о том, что станционные ребятишки мечтали стать не моряками или космонавтами, а собирались продолжить дело отцов.
Мои друзья детства, жившие на железнодорожных разъездах №51 и 53, неподалёку от Изимбета, с которыми я учился в интернате, окончили Алма-Атинский железнодорожный техникум и Ташкентский институт инженеров транспорта (ТашИИТ) и стали видными руководителями Актюбинского отделения дороги. Это – Жумабек Данияров, Марат Блимов, Базарбай Шаграев, Тлес Каирходжаев, Мурат Кантуренов.
А мои друзья из Изимбета тоже получили высшее образование. Галым Андагулов поступил в Казахский политехнический институт, Каден Кулбулдинов – в Новосибирский институт водного хозяйства, Кулмурза Тлеубаев – в Московский институт инженеров транспорта, Таштай Шитов – в техническое училище, а Бауеш Тагабергенов – вместе со мной - в Казахский государственный сельскохозяйственный институт.
Железнодорожником поначалу собирался стать и я. Вот только одно воспоминание из детство круто перевернуло моё представление о будущем.
Я уже упоминал, что неподалёку от Изимбета располагалось крупное отделение «Пахарь». Так вот, там, кроме животноводства, занимались развитием растениеводства. Кукурузу, например, выращивали. А мы, станционные ребята, ночами её воровали, чего уж греха таить. Нарвал початков, в мешок и – домой.
Также воровали и арбузы на совхозной бахче. Хотя там и был сторож, мы заходили с другого конца поля и набирали себе сладких ягод.
Сеном тоже там запасались. После сенокосилки оставались полосы неубранного сена. Так мы с ребятами набирали этого сена в брички, в арбу и увозили домой.
Конечно, руководство совхоза знало, что мы там пасёмся, и регулярно нас гоняло. Был такой старший агроном отделения по фамилии Иван Никитович Данилко, участник войны. Он наведывался на поля на своём стареньком «Москвиче». Мы, как только завидим его, разбегались и прятались по оврагам.
Так вот, как-то, ещё пацаном, я задумался: вырасту – буду таким начальником как Данилко, тоже буду ребятню гонять. Наивное, конечно, представление о работе агронома, но всё же.
Ещё один интересный случай – как я запасался зерном. Убирают комбайны поле. Я дождусь, пока какой-нибудь комбайн отъедет подальше от остальных, на край поля, подъезжаю на телеге, достаю из-за пазухи бутылку водки и показываю её комбайнёру. Он включает бункер и – раз, 2-3 мешка зерна насыпает мне в телегу. Я ему передаю водку и быстро еду домой с зерном.
Наверное, это всё и подтолкнуло меня к тому, чтобы я стал агрономом.
Надо сказать, что в кандагачской школе нас, в выпускном классе, усиленно и добросовестно готовили к поступлению в вузы. Ежедневно, после учебной смены, преподаватели, абсолютно безвозмездно для себя, готовили будущих абитуриентов к вступительным экзаменам. С нами занимались по «Пособиям для поступающих в центральные вузы СССР», где содержались экзаменационные задания последних лет. Благодаря этому, никакие испытания нам не были страшны, и мы с лёгкостью поступили в высшие учебные заведения.